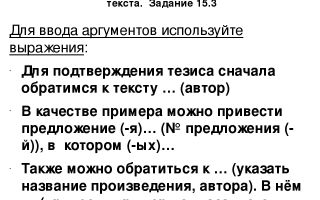Читать

Юрий Маркович Нагибин<\p>
В ТЕ ЮНЫЕ ГОДЫ<\p>
Быль<\p>
Семье Р-ных, давшей крупного ученого, многообещавшего литературоведа, талантливого художника и бесстрашного солдата<\p>
1<\p>
Что мог я сделать для тебя, Оська?.. Я не мог ни защитить тебя, ни спасти, меня не было рядом с тобой, когда смерть заглянула в твои раскосые глаза, но и будь я рядом, ничего бы не изменилось. А может быть, что-то изменилось бы, и неправда, будто каждый умирает в одиночку?.. Но к чему говорить о том, чего не вернешь, не изменишь, не переиграешь? Я мог сделать для тебя лишь одно – не забыть. И не забыл. Я помнил о тебе и Павлике каждый день той долгой и такой короткой жизни, что прожил без вас, и вымучил у вечности короткое свидание с вами. Я не просто верю, а знаю, что эта встреча была. Она не принесла ни радости, ни утоления, ни очищения слезами, ничего не развязала, не утихомирила в душе. И все-таки я начну мой рассказ, нет, мой плач о тебе с этой встречи и не стану искать новых слов для нее, а воспользуюсь старыми – они близки сути.<\p>
Это произошло несколько лет назад в лесу, неподалеку от моего загородного жилья, на долгой и таинственной тропе, которую мне никак не удавалось пройти до конца – лес неумолимо гнал меня прочь. И тогда я понял, что должен ломить по этой заросшей тропке, пока не возобладаю над чем-то, названия чему нет*.<\p>
* Приводимый далее текст в кавычках – самоцитата Ю. Нагибина из его рассказа “Школьный альбом” – Примеч. издателей<\p>
“…Теперь я поступал так: долго шел привычным маршрутом, а потом будто забывал о тропке, переставал выглядывать ее под иглами, подорожником, лопухами и брел на авось. И глухая тревога щемила сердце.<\p>
Раз я вышел на незнакомую лесную луговину. Казалось, солнце отражается в бесчисленных зеркалах, таким блистанием был напоен мир. И зеленая луговинка залита солнцем, лишь в центре ее накрыла густая круглая тень от низко повисшего маленького недвижимого облака. В пятачке этой малой тени на возвышении – бугор не бугор, камень не камень – стояли они: Павлик и Оська. Вернее, маленький Оська полулежал, прислонясь к ногам Павлика, казавшегося еще выше, чем при жизни. Они были в шинелях, касках и сапогах, у Павлика на груди висел автомат. Оськиного оружия я не видел. Их лица темны и сумрачны, это усугублялось тенью от касок, скрывавшей глаза. Я хотел кинуться к ним, но не посмел, пригвожденный к месту их отчужденностью.<\p>
– Чего тебе нужно от нас? – Голоса я не узнал и не видел движения мускулов на темных лицах, но догадался, что это сказал Павлик.<\p>
– Чтобы вы были здесь. На земле. Живые.<\p>
– Ты же знаешь, что мы убиты.<\p>
– А чудо?.. Я вас ждал.<\p>
– Ты думал о нас. – Мне почудился в страшном своей неокрашенностью голосе Павлика слабый отзвук чего-то былого, родного неповторимой родностью. – Думал каждый день, вот почему мы здесь.<\p>
– И вы?..<\p>
– Мертвые. У него снесено полчерепа, это не видно под каской. У меня разорвано пулей сердце. Не занимайся самообманом. Хочешь о чем-нибудь спросить?<\p>
– Что там?<\p>
Ответа не последовало. Потом Оська, его голос я помнил лучше, да ведь и расстались мы с ним позже, чем с Павликом, тихо проговорил:<\p>
– Скажи ему.<\p>
– Зачем ты врешь о нас? – В голосе был не упрек – презрительная сухость. Я никогда не горел в сельской школе, окруженной фашистами, а он не выносил товарища из боя. Меня расстрелял немецкий истребитель, а ему снесло затылок осколком снаряда, когда он писал письмо. На мертвых валят, как на мертвых, но ты этого не должен делать. Думаешь, нам это надо? Ты помнишь нас мальчишками, мы никогда не мечтали о подвигах. И оттого, что нас убили, мы не стали другими.<\p>
– Вам плохо там?<\p>
– Никакого “там” нет, – жестко прозвучало в ответ – Запомни это. Всё тут. Все начала и все концы. Ничто не окупится и не искупится, не откроется, не воздается, все – здесь.<\p>
– Сказать вам что-нибудь?<\p>
– Нет. Всё, что ты скажешь, будет слишком маленьким перед нашей большой смертью.<\p>
Я не уловил их исчезновения. Поляну вдруг всю залило солнечным светом, облако растаяло, а там, где была приютившая мертвых солдат тень, курилась легким выпотом влажная трава.<\p>
Время от времени я пробую найти этот лесной лужок, но знаю, что попытки тщетны…”<\p>
2<\p>
..А теперь я начну с самого начала. Мать взяла меня в “город”, так назывались ее походы по магазинам Кузнецкого моста, Петровки, Столешникова переулка. Странный торжественный и волнующий ритуал, смысл которого я до конца не постигал, ведь мама почти ничего не покупала там. В пору, когда товары были – по нехватке денег, позже – по отсутствию товаров. Тем не менее день, когда мама отправлялась в “город”, сиял особым светом. С утра начинались сборы: мама мыла волосы какой-то душистой жидкостью, сушила их и красиво причесывала; потом что-то долго делала со своим лицом у туалетного столика и вставала из-за него преображенная: с порозовевшими щеками, алым ртом, черными длинными ресницами, в тени которых изумрудно притемнялись ее светло-зеленые глаза, чужая и недоступная, что усиливало мою всегдашнюю тоску по ней; мне всю жизнь, как бы тесно ни сдвигал нас быт, как бы ни сближало нас на крутых поворотах, не хватало мамы, и сейчас, когда она ушла, во мне не возникло нового чувства утраты, лишь острее и безысходнее стало то, с каким я очнулся в жизнь.<\p>
Иногда мама брала меня в “город”. То было несказанным наслаждением с легким наркотическим привкусом, помешавшим дивным, подернутым сладостным туманом и бредцем видениям задержаться в моей памяти. Отчетливо помнятся лишь перевернутые человеческие фигуры в низко расположенных стеклах обувного магазина на углу Кузнецкого и Петровки, но что это были за стекла и почему в них отражалась заоконная толпа, да еще вверх ногами, – убей бог, не знаю и не догадываюсь. Наверное, это легко выяснить, но мне хочется сохранить для себя тайну перевернутого мира, порой населенного только большими ногами, шагающими по серому асфальтовому небу, порой крошечными фигурками, под головой которых блистала небесная синь. Еще я помню страшного нищего на Петровке, возле Пассажа, он совал прохожим культю обрубленной руки и, брызгая слюной, орал: “Родной, биржевик, подай герою всех войн и революций!” Нэп был уже на исходе, и бывшие биржевики испуганно подавали горластому и опасному калеке. Сохранилось в памяти и пленительное дрыганье на пружинке меховой игрушечной обезьяны Фоки с детенышем: “Обезьяна Фока танцует без отдыха и срока, ходит на Кузнецкий погулять, учит свою дочку танцевать. Веселая забава для детей и молодых людей!” Веселая и, видимо, дорогая забава, потому что мама упорно не замечала умильных взглядов, которые я кидал на обезьяну Фоку, и молящих – на нее. Лишь раз я был близок к осуществлению своей мечты о неутомимой танцорке: на Фоку должны были пойти остатки гигантской суммы в десять рублей, собранные мною по алтынам и пятакам на приобретение пистолета “монтекристо” и выкраденной у меня из кармана в магазине Мюра и Мерилиза.<\p>
Источник: https://www.litmir.me/br/?b=65050&p=1
Текст ЕГЭ. Ю. М. Нагибин. Тема: Дружба

Текст ЕГЭ. Ю. М. Нагибин. О дружбе.
(1)Один жестокий человек сказал: все молодые люди похожи друг на друга. (2)Это было сказано из глубины презрения к людям, но известная доля истины тут есть.
(3)Конечно, все молодые люди разные, но они решают одну задачу: первого и самого трудного приспосабливания к жизни, утверждения себя в ней.
(4)Любому нормальному юноше свойственны завышенное представление о собственной ценности, идеализм (чему не мешает защитный скепсис, порой цинизм), ранимость и отсюда – яростное стремление сберечь от посторонних (самые посторонние – родители и близкие) свою внутреннюю жизнь.
(5)Мне до сих пор непонятно, как мы вработались в ту дружбу, память о которой за сорок лет не только не стёрлась, не потускнела, но стала больнее, пронзительней и неотвязней – щемяще-печальный праздник, который всегда со мной. (6)Мы трое: Павлик, Оська и я – были нужны друг другу, хотя едва ли смогли бы назвать в словах эту нужность.
(7)В дружбе есть нечто не поддающееся анализу, как и в любви, о которой вернее всех сказал Гёте: «Очень трудно любить за что-нибудь, очень легко – ни за что». (8)Конечно, безоглядное, слепое влечение любви, её таинственный зов неприложимы к дружбе, но и в дружбе есть что-то сверх сознания.
(9)Впрочем, я знаю, что с Павликом нас спаяли поиски своего места в жизни, давление властных глубинных сил, не ведавших очень долго своего применения. (10)Эти устремленности были разные; моя раньше обрела имя – литература, его позже – театр, но мучений они доставили нам в равной мере.
(11)Терпеть и одолевать неизвестное было легче вдвоем. (12)Мы искали неведомую землю в темноте, то сходясь, то расходясь, черпая бодрость и надежду в стойкости другого, который сам в себе этой стойкости не ощущал.
(13)Нас связывали и внешние обстоятельства жизни: мы жили в одном подъезде, вместе готовили уроки, вместе испытывали свой дух искусственно придуманными увлечениями, ибо не догадывались о подлинных; мы находились в постоянном обмене; неудивительно, что у нас выработалось схожее отношение к людям, ко многим жизненным вопросам, что наши вкусы, пристрастия и отторжения совпадали. (14)И хотя все это ещё не самая душа нашей дружбы, предпосылки взаимопритяжения ясны.
(15)С Оськой обстояло по-другому. (16)С ним можно было говорить о многом, потому что он был развит, начитан, остроумен, но нельзя было говорить о том главном, что нас томило, и – что ещё важнее – нельзя было об этом молчать, как часами молчали мы с Павликом, занимаясь чёрт знает чем: от химический опытов – вдруг мы великие учёные? – до держания на кончике носа половой щётки или бильярдного кия – ради упражнения и проверки воли. (17)С Оськой было интересно, наполненно, весело, «крылато» – не найду другого слова – это правда, но не вся правда, ведь бывало и грустно, и смутно, и тревожно… (18)Всякое бывало, но в памяти остался солнечный свет, который потом уже никогда не был так ярок… (По Ю. М. Нагибину)
*Юрий Маркович Нагибин (1920 – 1994) – русский писатель, киносценарист. Здесь помещён (с некоторыми сокращениями) отрывок из его повести «В те юные годы», в которой он вспоминает своих друзей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
<\p>
Источник: https://rustutors.ru/vsetekstiege/druzhba/492-tekst-ege-yu-m-nagibin-tema-druzhba.html
Юрий Нагибин – В те юные годы

Я совсем забыл о нем, нет, не забыл, конечно, слишком много уязвившего мою гордость было в воспоминании, но загнал в самый дальний угол сознания образ мальчика, чей рисунок так подло уничтожил.
К тому же прошло несколько лет, я как бы перешел в другой вес: с художническими иллюзиями было покончено, мушкетер в рамке, правда, еще висел на стене, но он остался как милая память минувшего, как и облезлый плюшевый медвежонок; я был безответно влюблен в девочку старше меня на два года и в учительницу биологии с тяжелым пучком золотых волос, и какое мне вообще дело до этого мозгляка?
Муся с мамой уединились в нашей второй комнате, а я остался с Оськой. Он счел нужным представиться:
— Тезка слуги Хлестакова! — И сюсюкающим тоном добавил; — По улице бодро шагала веселая компания Миша, Вова, Боря и маленький Осик. — Он тяжело вздохнул. — Всегда последний, всегда сзади, так-то, брат!
Наверное, до вздоха была цитата из какой-то дурацкой детской книжки Я не понял: смеется он или всерьез сетует на жизнь. Он, конечно, вытянулся с той поры, но настоящего роста не набрал. И все же не выглядел «маленьким Осиком», который всегда плетется сзади.
Он производил впечатление весьма бойкого и самоуверенного паренька, и поскольку сам я ни бойкостью, ни просто находчивостью не отличался, то насторожился и даже немного оробел.
И еще — он перестал быть «рахитом» — пропорциональный, очень стройный, к тому же кокетливо одетый: курточка, брюки «никкер-бокер», клетчатые шерстяные носки.
— Ну, показывай, чем живешь! — сказал Оська и ни с того ни с сего продекламировал, грассируя: — «Вошла ты, резкая, как нате! муча перчаток замш. Знаете, я выхожу замуж. Ну, что ж, выходите… Видите, спокоен, как пульс покойника..»
Стихи меня оцарапали, хотелось узнать, чьи они, но я постеснялся спросить и тем выдать свою необразованность.
Давно уже содержимое ящиков письменного стола потеряло для меня всякий интерес, но, чтобы развлечь гостя, я показал ему какие-то инструменты, останки «мекано», коллекцию пересохших, почти рассыпающихся бабочек в коробке под стеклом, толстый в красном тисненом переплете альбом с марками, финский нож и пистолет «монтекристо», на который я вторично скопил деньги после большого ограбления в «Мюре и Мерилизе». Благородно тяжелый, с длинным блестящим стволом и шершавой, красиво изогнутой ручкой, из всего барахла детских лет он один сохранил притягательность. Оська, смеясь, прицелился в меня, сильно сощурив правый глаз, — он не умел обращаться с огнестрельным оружием.
— В пяти шагах убивает человека, — сообщил я — Наповал!
Оська посмотрел на опасную игрушку и тихо отложил. В альбоме с марками его привлекли портреты царей, шахов, султанов, магараджей, президентов и прочих правителей кануна первой мировой войны, когда этот альбом был выпущен, коллекцией моей он пренебрег.
С острым любопытством всматривался он в старые и молодые лица под коронами, цилиндрами, касками, треугольниками, чалмами, тюрбанами, фесками. Он возликовал, дойдя до юношеских и даже детских лиц правителей Пенджаба, Бенгалии, Кашмира, Раджестана.
Расфуфыренные на восточный лад мальчишки выглядели на редкость эффектно.
— Вот это да!.. Гип, гип, ура! — возвеселился Оська. — Мировые пацаны! — И вдруг запел: — Повидай там раджу и эмира, посмотри баядерок балет, а невесте своей из Кашмира привези золотой амулет!..
Сам лишенный слуха (сейчас меня уверяют, что не слуха, а способности воспроизводить мелодию), я мгновенно чувствую даже малую фальшь, — у Оськи был абсолютный слух.
Грассировал он еще сильнее, чем при чтении стихов, похоже, он кому-то подражал, ведь в обычном разговоре его «р» звучало чисто, но спросить об этом я опять постеснялся, равно и о том, что он поет.
Раздражение мое против гостя все росло.
— Альбом — вещь, а марки — дерьмо, — подвел итоги Оська. — Что у тебя еще есть?
— Лобзик.
— Отсталое развитие, дружок! Ты еще занимаешься выпиливанием?
— Нет, я думал, ты занимаешься.
— «Какими Галиафами я зачат — такой большой и такой ненужный?» — спросил Оська с отчаянием. — «Милостивые государи! Говорят, где-то, кажется, в Бразилии, есть один счастливый человек!»
У меня заломило голову. Наверное, не нужно было вслушиваться в его трепотню, лишенную какой-либо связи с происходящим, но я искал в ней смысл, и мои бедные мозговые извилины заплелись в косу.
Обветшалые сокровища, которых мне, впрочем, хватало в Оськином возрасте, оставили его равнодушным. Кроме альбома, он не нашел у меня ничего заслуживающего внимания.
Где-то в залавке валялись деревянные шпаги с «настоящими» эфесами и мушкетерский плащ с осыпавшимся золотым крестом на груди; фетровую шляпу с остатком обломавшегося страусового пера отдали Верониному брату Якову, чтобы прикрывал голову во время пахоты, а сапоги с ботфортами — другому брату, Егору, сторожившему сухотинские сады. Но стоило ли ворошить залавочную пыль — этот скороспелый подросток небось давно вышел из мушкетерского плена. Чем он живет, что может его заинтересовать? На д'Артаньяна в овальной рамке он даже не глянул, сразу поняв, что это дрянцо, тем менее хотелось показывать ему останки былого увлечения: ящички с красками, кисточки, палитры, поэтому я даже не открыл нижний правый ящик стола, где погребено мое художническое прошлое.
— «И вдруг все вещи кинулись, раздирая голос, скидывать лохмотья изношенных имен…» — замогильным голосом произнес Оська — Что читаешь, бледнолицый?
Я мотнул головой на полку с книгами.
Он подошел, взгляд его удивленных раскосых глаз забегал по корешкам. Меня злила эта беглость, означавшая, что все книги ему знакомы. При этом он что-то бормотал, вдруг повышая голос почти до крика, то опадая на шепот. Затем отчетливо и спокойно сказал, глядя мне в лицо:
— «А тоска моя растет, непонятна и тревожна, как слеза на морде у плачущей собаки». Стихов у тебя нет. Ну, а «Смока Беллью» ты хоть читал?
— Не помню. Может, читал. Чье это?
— Джека Лондона. Если б читал, помнил бы. Целая серия романов. Все лучшие люди зачитываются. Но ты совсем бушмен.
Он явно нарывался. И тут я вспомнил о мамином предупреждении. Значит, она знала, что Оська ломака, хвастун и задира. При этом он еще и сопляк — смешно с ним связываться.
Но до каких пор должен я терпеть его разнузданность? Он явно демонстрировал свое пренебрежение ко мне: слонялся по комнате, трогал разные вещицы и небрежно отбрасывал, выкрикивал раздражающе-непонятные стихи, свистел, пел. Позже, сблизившись с Оськой, я узнал, что он не терпит незаполненных минут.
Ему всегда нужно было что-то делать: играть, читать, разговаривать, спорить, рисовать, клеить, позже — фотографировать, ставить шарады, показывать фокусы, он не терпел пустоты; мой обиход его не заинтересовал, живого общения не получилось, и образовался вакуум.
Источник: https://nice-books.ru/books/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/page-5-45012-yurii-nagibin-v-te-yunye-gody.html
Юрий Нагибин: В те юные годы
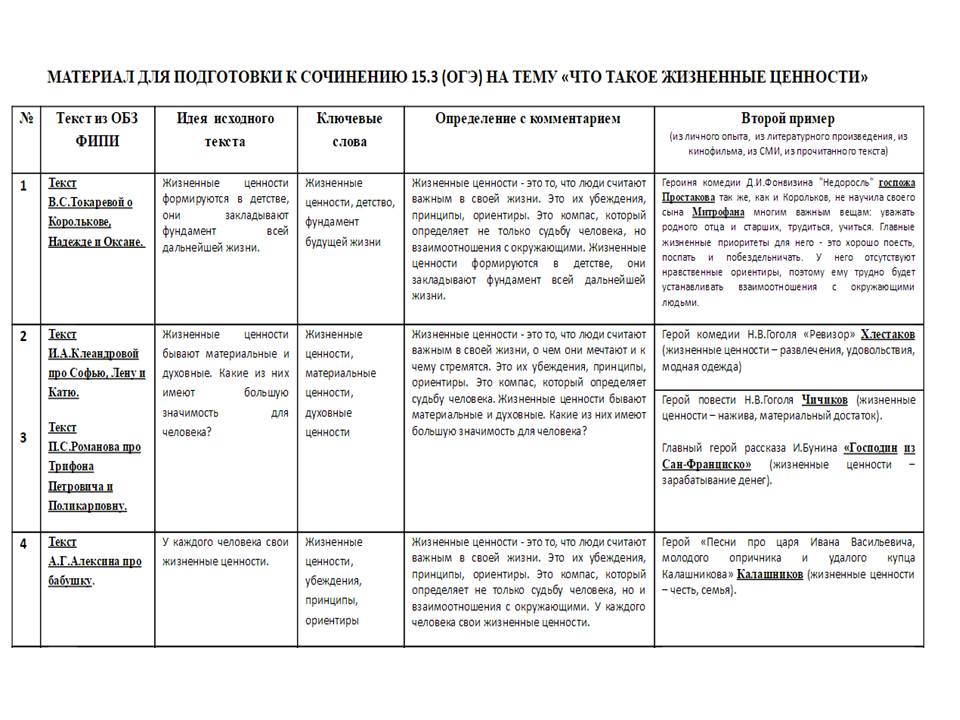
Юрий Маркович Нагибин
В те юные годы
Семье Р-ных, давшей крупного ученого, многообещавшего литературоведа, талантливого художника и бесстрашного солдата
Быль 1
Что мог я сделать для тебя, Оська?.. Я не мог ни защитить тебя, ни спасти, меня не было рядом с тобой, когда смерть заглянула в твои раскосые глаза, но и будь я рядом, ничего бы не изменилось. А может быть, что-то изменилось бы, и неправда, будто каждый умирает в одиночку?..
Но к чему говорить о том, чего не вернешь, не изменишь, не переиграешь? Я мог сделать для тебя лишь одно — не забыть. И не забыл. Я помнил о тебе и Павлике каждый день той долгой и такой короткой жизни, что прожил без вас, и вымучил у вечности короткое свидание с вами.
Я не просто верю, а знаю, что эта встреча была. Она не принесла ни радости, ни утоления, ни очищения слезами, ничего не развязала, не утихомирила в душе.
И все-таки я начну мой рассказ, нет, мой плач о тебе с этой встречи и не стану искать новых слов для нее, а воспользуюсь старыми — они близки сути.
Это произошло несколько лет назад в лесу, неподалеку от моего загородного жилья, на долгой и таинственной тропе, которую мне никак не удавалось пройти до конца — лес неумолимо гнал меня прочь. И тогда я понял, что должен ломить по этой заросшей тропке, пока не возобладаю над чем-то, названия чему нет.
«…Теперь я поступал так: долго шел привычным маршрутом, а потом будто забывал о тропке, переставал выглядывать ее под иглами, подорожником, лопухами и брел на авось. И глухая тревога щемила сердце.
Раз я вышел на незнакомую лесную луговину. Казалось, солнце отражается в бесчисленных зеркалах, таким блистанием был напоен мир. И зеленая луговинка залита солнцем, лишь в центре ее накрыла густая круглая тень от низко повисшего маленького недвижимого облака.
В пятачке этой малой тени на возвышении — бугор не бугор, камень не камень — стояли они: Павлик и Оська. Вернее, маленький Оська полулежал, прислонясь к ногам Павлика, казавшегося еще выше, чем при жизни. Они были в шинелях, касках и сапогах, у Павлика на груди висел автомат. Оськиного оружия я не видел.
Их лица темны и сумрачны, это усугублялось тенью от касок, скрывавшей глаза. Я хотел кинуться к ним, но не посмел, пригвожденный к месту их отчужденностью.
— Чего тебе нужно от нас? — Голоса я не узнал и не видел движения мускулов на темных лицах, но догадался, что это сказал Павлик.
— Чтобы вы были здесь. На земле. Живые.
— Ты же знаешь, что мы убиты.
— А чудо?.. Я вас ждал.
— Ты думал о нас. — Мне почудился в страшном своей неокрашенностью голосе Павлика слабый отзвук чего-то былого, родного неповторимой родностью. — Думал каждый день, вот почему мы здесь.
— И вы?..
— Мертвые. У него снесено полчерепа, это не видно под каской. У меня разорвано пулей сердце. Не занимайся самообманом. Хочешь о чем-нибудь спросить?
— Что там?
Ответа не последовало. Потом Оська, его голос я помнил лучше, да ведь и расстались мы с ним позже, чем с Павликом, тихо проговорил:
— Скажи ему.
— Зачем ты врешь о нас? — В голосе был не упрек — презрительная сухость. Я никогда не горел в сельской школе, окруженной фашистами, а он не выносил товарища из боя.
Меня расстрелял немецкий истребитель, а ему снесло затылок осколком снаряда, когда он писал письмо. На мертвых валят, как на мертвых, но ты этого не должен делать.
Думаешь, нам это надо? Ты помнишь нас мальчишками, мы никогда не мечтали о подвигах. И оттого, что нас убили, мы не стали другими.
— Вам плохо там?
— Никакого «там» нет, — жестко прозвучало в ответ — Запомни это. Всё тут. Все начала и все концы. Ничто не окупится и не искупится, не откроется, не воздается, все — здесь.
— Сказать вам что-нибудь?
— Нет. Всё, что ты скажешь, будет слишком маленьким перед нашей большой смертью.
Я не уловил их исчезновения. Поляну вдруг всю залило солнечным светом, облако растаяло, а там, где была приютившая мертвых солдат тень, курилась легким выпотом влажная трава.
Время от времени я пробую найти этот лесной лужок, но знаю, что попытки тщетны…»
2
..А теперь я начну с самого начала. Мать взяла меня в «город», так назывались ее походы по магазинам Кузнецкого моста, Петровки, Столешникова переулка. Странный торжественный и волнующий ритуал, смысл которого я до конца не постигал, ведь мама почти ничего не покупала там. В пору, когда товары были — по нехватке денег, позже — по отсутствию товаров.
Тем не менее день, когда мама отправлялась в «город», сиял особым светом.
С утра начинались сборы: мама мыла волосы какой-то душистой жидкостью, сушила их и красиво причесывала; потом что-то долго делала со своим лицом у туалетного столика и вставала из-за него преображенная: с порозовевшими щеками, алым ртом, черными длинными ресницами, в тени которых изумрудно притемнялись ее светло-зеленые глаза, чужая и недоступная, что усиливало мою всегдашнюю тоску по ней; мне всю жизнь, как бы тесно ни сдвигал нас быт, как бы ни сближало нас на крутых поворотах, не хватало мамы, и сейчас, когда она ушла, во мне не возникло нового чувства утраты, лишь острее и безысходнее стало то, с каким я очнулся в жизнь.
Читать дальше
Источник: https://libcat.ru/knigi/proza/sovetskaya-klassicheskaya-proza/128740-yurij-nagibin-v-te-yunye-gody.html
Юрий Нагибин

Знаток старых московских переулков, писатель Юрий Нагибин (1920-1994) рос обычным мальчишкой — сорванцом, мечтающим о мушкетёрских подвигах, о драках на шпагах, о заманчивых путешествиях и открытиях.
В ущерб всякому другому чтению он сделался поклонником Дюма, над своей кроватью повесил в овальной рамке портрет д'Артаньяна, друзей переименовал в Атоса, Портоса и Арамиса.
«Я несколько лет прожил в двойном образе: московского мальчишки и дерзкого гасконца, у меня были ботфорты, плащ, шляпа с пером и шпага с настоящим эфесом», — признавался писатель.
Возможно, тяга к благородным героям зародилась потому, что отца своего он не знал, тот погиб в 1920 году, в год рождения Юрия, и у мальчика сменилось два отчима. Самое большое влияние на него оказывала мать, именно она сделала выбор за сына: он должен стать врачом.
Но, к её огорчению, с первого курса медицинского института Юрий ушёл и поступил на сценарное отделение кинематографистов. Уже тогда юноша пробовал писать рассказы, обладал редким упорством, чувством юмора и наблюдательностью, легко передавал свои впечатления об окружающем, подмечал забавное и драматическое в жизни.
Не закончив образования, Нагибин добровольцем отправился на фронт, воевал недолго — получил контузию. В действующие войска вернулся уже в качестве военного корреспондента.
В сорок третьем году выходит его первая книга «Человек с фронта», где он серьёзно и правдиво осмысливает военные события, характеры людей в сложной боевой обстановке.
Военной теме посвящены повести и рассказы: «Павлик», «Далеко от войны», «Ранней весной», «Гибель пилота».
До конца жизни писателя преследовала память о предвоенном детстве, об одноклассниках, погибших на фронтах Великой Отечественной. Он посвятил им рассказы, которые назвал «былями»: «В те юные годы», «Школьный альбом».
Около сорока фильмов было поставлено по сценариям Юрия Нагибина. Некоторые из них приобрели широкую известность: «Председатель», «Красная палатка», «Чайковский», «Ночной гость». Он был одним из сценаристов фильма «Дерсу Узала», с режиссёром Натальей Бондарчук работал над созданием художественного фильма «Бэмби».
Став журналистом, он основательно познакомился с деревней, с её людьми, бытом, с их обычаями и понятиями. Сбылись детские романтические мечты писателя о путешествиях — он много странствовал по городам и весям.
Умение видеть и ценить красоту в природе сплелось у него со страстью охотника. Охотничьи рассказы легли в основу нескольких сборников, среди них — «Зелёная птица с красной головой».
После их публикации критики назвали этот цикл «Записками охотника» двадцатого века».
Юрий Маркович внимательно вслушивается в различные звуки, голоса природы, присматривается к каждой травинке, знает её название, передаёт цвета и запахи тех мест, о которых рассказывает, читателю самому невольно хочется убедиться: действительно ли всё это так. Всё точно! Можно не сомневаться! В зрелые годы писатель увлёкся биографическими повестями и рассказами о жизни поэтов, композиторов, художников.
Многие герои рассказов писателя обаятельны и необычны: пятиклассник Савушкин и молодая учительница Анна Васильевна («Зимний дуб»), девочка со странным именем («Эхо»), Вася и бедная Машка («Старая черепаха»).
Любой рассказ Юрия Нагибина можно как будто передать в двух-трёх словах. О чём говорится в рассказе «Новый друг»? О том, как два мальчугана, встретившиеся как враги, решили наконец подружиться. Кажется, просто? И вот одна история сменяет другую…
Молодая учительница на уроке русского языка объясняет ребятам, что такое имя существительное. В классе всем понятно, что это за часть речи, дети приводят свои примеры, только опоздавший на урок Савушкин настойчиво и не к месту повторяет одно и то же: «Зимний дуб»… «Зимний дуб»…
«Почему зимний? — удивляется учительница. — Просто дуб. «Дуб» — имя существительное, а что такое «зимний», мы ещё пока не проходили». Но Савушкин не унимается.
После занятий он ведёт учительницу той же дорогой, по которой сам ходит в школу, и она видит тот самый величественный дуб… Зимний дуб в красивом зимнем убранстве.
Савушкин показывает ей, какие тайны хранятся под этим могучим деревом, и Анна Васильевна понимает, почему мальчик опаздывает на уроки.
Стоит прочитать рассказ Юрия Нагибина «Эхо», как каждому захочется поехать в Синегорию, где герой встретился и подружился со смелой и своенравной девочкой по имени Витька. Она очень любила природу и собирала эхо. Именно «собирала» эхо, как коллекционер собирает марки или наклейки от спичечных коробков.
Вот другой рассказ: захотелось Васе купить двух маленьких черепашек, мама не дала денег, и он продал старую, наскучившую ему черепаху Машку.
За старую черепаху ему заплатили, сколько он просил, а молодые черепашки оказались куда забавнее упрямой, похожей на камень Машки.
И мама не рассердилась на Васю, она только взглянула грустно и сказала, скорее себе, чем сыну: «Выходит, старый друг не лучше новых двух…»
Всё отлично, но Вася почему-то не спит: нехорошо, несправедливо поступил он со старой черепахой! Впервые в жизни чувствует он, что, кроме его, Васиного, удовольствия, есть что-то другое, какая-то чужая жизнь. Судьба старой Машки зависела от него, а он как распорядился? Он даже не подумал о Машке, сделал, как ему, Васе, приятнее…
Нехорошо! И так велико это недовольство собой, что Вася не может больше лежать в постели: встаёт, одевается, берёт маленьких черепашек (вдруг новые хозяева Машки не захотят вернуть её без доплаты?!) и выходит на ночную улицу… Страшно и таинственно ночью в саду и на улице, но Вася идёт спасать черепаху — так велит ему долг.
Читая этот рассказ, и улыбнёшься, и взгрустнёшь, и задумаешься, а закончив его, вдруг почувствуешь, что узнал что-то новое, о чём раньше не думал. «Как же я раньше этого не замечал?» — думаешь иной раз, читая рассказы о детстве. У Нагибина чудесный дар открывать новое, значительное в самых простых, обычных вещах.
Прочитайте и подумайте о том, что иная книга интересна не только приключениями, запутанной интригой, но и мыслями, какие она будит.
Как трудно быть учителем
Отрывок
«Не сотвори себе кумира» – гласит заповедь. В детстве я только тем и занимался, что творил себе кумиров. Языческое стремление обожествлять окружающее было столь сильно во мне, как будто я происходил с берегов Ганга. Я жил в поклонении многим богам.
Кроме богов домашних, к ним принадлежали юный велосипедист Батаен, теннисист Правдин, Хосе-Рауль Капабланка, мушкетёры Александра Дюма, наш сосед Данилыч – бог гражданской войны, голкипер Соколов, Вовка Ковбой, дворовый атаман, и Колька Глушаев, его дачный заместитель, мой дом, выходивший на три переулка, Меншикова башня – за грозную высоту, Абрикосовский сад, рысак Хапун из конюшни в нашем дворе, пистолет «монтекристо», красный цвет, городки и шестилетняя девочка Ляля, обмазанная шоколадом.
В тот ясный, жёсткий, начавшийся с заморозков первый день сентября все прежние кумиры умалились, сникли, отшатнулись в тень, многие с тем, чтобы уже никогда не вернуться, и державно воссиял образ отнюдь не христианской, а языческой Марии.
Я радостно и беззаветно вручил свою судьбу новому кумиру – величавой женщине с ореолом вокруг головы, с прямым, спокойно-строгим, нелюбопытствующим взором, с чеканной серебряной брошкой, лежащей плашмя на высокой, тихо дышащей груди.
Как трудно быть учителем! Проходить ежедневный контроль десятков пар внимательных, острых, всевидящих и зачастую недоброжелательных глаз. Любое упущение в костюме, причёске, повадке немедленно отмечается и заносится в тот устный кондуит, который школьники ведут на учителей с большей неумолимостью, нежели учителя на них…
Мария Владимировна была безукоризненна во всём. Едва ли не единственная учительница нашей большой школы, она не носила клички. На её уроках царила тишина, хотя она отнюдь не принадлежала к «страшилам».
Она никогда не повышала голоса, не отчитывала провинившихся и, уж конечно, не выставляла за дверь.
Лишь в редких случаях делала она замечание, обычно же ограничивалась взглядом, чаще просто укоризненным, порой кратко-грозным, как взблеск молнии, иногда же – томительно-долгим, так что хотелось сквозь землю провалиться, исчезнуть, развеяться прахом.
Это было известно мне из чужого опыта. За все годы я ни разу не удостаивался такого взгляда, да, уверен, и не выдержал бы его. Взгляд обычно сопровождался неразвёрнутой, презрительно-горькой улыбкой, а предшествовал ему прилив крови к почти не защищенным кожей сосудам Марии Владимировны.
Вообще Мария Владимировна легко краснела, но не от смущения, неуверенности или радости, а лишь от недовольства или скрытого гнева. Мне кажется, Мария Владимировна держала нас в повиновении, прежде всего этим румянцем, как водителей – красный свет светофора. Мы так же замирали при его появлении, не доводя дела до нарушения.
Но конечно же, не на страхе строились её отношения с классом. Она владела бесценным даром подчинять себе молодые души. Весь класс в той или иной мере был влюблён в Марию Владимировну – и мальчишки и девчонки.
Она достигала этого минимумом усилий: всегдашней подтянутостью – ни малейшей небрежности в одежде, жестах, интонации, – ровным поведением, образцовостью всего внутреннего и внешнего облика.
В её лишённой скучного педантизма строгости была торжественность высокого и скромного праздника, исключающего панибратство и даже намёк на вульгарность. Она умела подать себя, заставить ценить малейший знак своего внимания, не то, что благоволения.
Добрая улыбка Марии Владимировны могла сделать человека счастливым.
Она избегала прикосновения к ученикам. В младших классах девчонки и даже некоторые мальчишки любили виснуть на учителях, да и сами учителя не прочь были в доверительном разговоре обнять ученика за плечи.
Этот приём особенно рекомендуется при объяснении с отъявленным хулиганом и должен вызвать раскаяние в заблудшей душе, а также при шепотке с малолетними стукачами, готовыми за теплоту учительского доверия предать всех товарищей, выдать все тайны.
Мария Владимировна так себя поставила, что и самые липучие девчонки не осмеливались коснуться её, не то что обнять или повиснуть на талии.
И последнее, на чём стоял её авторитет, хотя с этого следовало бы начать: она была отличным педагогом и справедливым человеком.
Она превосходно объясняла, обладала красивым, чётким почерком, грудным, звучным голосом, пробивавшим всякую сонную лень, и умелыми руками – в старших классах Мария Владимировна преподавала труд.
И всегда выставляла тебе ту отметку, которую по совести ты и сам поставил бы себе.
Но, пожалуй, всё перечисленное не вознесло бы Марию Владимировну так высоко в наших душах, если б не покров тайны, окутывающий её статную фигуру.
Никто ничего не знал про неё, кроме каких-то плоских очевидностей: живёт возле Красных ворот, не замужем, бездетна, вот и всё. За этим куцым знанием простирались, дали неведения.
Как случилось, что такая прекрасная женщина, как Мария Владимировна, лишена мужа, семьи? Все остальные классные руководительницы имели мужей.
Видимо, прежде Мария Владимировна была замужем, но что-то случилось в её жизни, какая-то драма, и она осталась одна. В первом-втором классах мы, конечно, не задавались подобными вопросами, в третьем нас стало волновать непонятное одиночество Марии Владимировны, в четвёртом мы уже подвергали это одиночество серьёзному сомнению. Мы полагали, что у Марии Владимировны есть тайна.
Наше уважение к ней не позволяло нам обсуждать её тайну друг с другом, как, скажем, очередной запой Михаила Леонидовича, развод Агнии Федоровны со старым мужем или влюбленность преподавательницы физкультуры в красавца завуча. Но каждый про себя бился над загадкой Марии Владимировны. Что касается меня, то я думал об этом постоянно и легко угадывал настроенных на ту же волну.
Жизнь Марии Владимировны за стенами школы была повита туманом.
Что она делает, когда не сидит над нашими неопрятными тетрадками? Куда ходит? С кем встречается, дружит? Каковы её увлечения? Мария Владимировна была хорошо осведомлена не только о новых спектаклях, фильмах, выставках, но и о таких, казалось бы, необязательных для неё событиях, как футбольный матч «Спартак» – «Локомотив», гастроли иллюзиониста Кефало или рекордный прыжок Виталия Лазаренко. Может, она просто читала «Вечернюю Москву» и обладала хорошей механической памятью? А может, считала нужным быть в курсе той жизни, что занимает её учеников? Но не исключено, что она сама была футбольной болельщицей или страстной театралкой, что в юности снималась в кино, что её распиливал в деревянном ящике муж-фокусник, пока не бросил ради девочки-акробатки, или же она сама ушла от него с укротителем львов, вскоре растерзанным хищниками. Клянусь, мне и такая чепуха приходила в голову.
Почему нам казалось, что у Марии Владимировны должна быть особая, странная, необыкновенная жизнь?
Ну, хотя бы потому, что она не растрачивала себя в классе, как другие учителя. Она давала нам не меньше, может быть, даже больше своих коллег, но душа её оставалась сохранной, свободной, не выкипала, как, скажем, у вечно взволнованной, громогласной, переходящей от гнева к восторгу и вновь впадающей во гнев Анны Дмитриевны.
Она не уставала, как рыхлая, добрая и бессильная Софья Николаевна, кончавшая всякий школьный день валерьянкой или другими каплями. Да и все наши учительницы, немолодые, к тому же обременённые домашними заботами, напрочь выдыхались к концу учебного дня. За исключением юной и легкомысленной Елены Михайловны. Но с той всё было ясно.
У школьных дверей её поджидал муж-лётчик, они сразу отправлялись в кино, или в сад «Эрмитаж», или на каток, если дело было зимой.
Ну а куда направляла свой неспешный, торжественный шаг Мария Владимировна? Неужели просто домой?..
Вот она приходит в свою пустую, одинокую комнату в густонаселённой квартире, пропахшей кухней, раздевается, повязывает фартук и начинает разогревать на примусе вчерашний суп и заготовленные впрок биточки, а потом валяется на кушетке, проглядывая «Вечерку», особенно внимательно последнюю страницу, где хроника и реклама кино, театров, цирка, объявления о смерти и перемене фамилий… Такую картину мы не могли представить себе. Нет, нет, тут всё должно быть напоено ароматом недоступной для нас, манящей взрослой жизни, осуществляющей себя сильно и смело.
Однажды – уже третьеклассником – мартовским лиловым подвечером я долго шёл за Марией Владимировной путаницей переулков, что сплела Москву между Чистыми прудами и Садовой. Это получилось как-то само собой, мне и в голову не приходило выслеживать её. Я направился к больному товарищу и где-то в устье Мыльникова переулка чуть не наскочил на свою учительницу.
Не знаю, почему всё обмерло во мне, будто я совершил невесть какую нескромность. Я замер и молил бога, чтобы она не обернулась. Мне казалось: если она приметит меня и заговорит, случится непоправимая беда, я или онемею, или лишусь сознания, или разревусь, или выкажу такую непроходимую тупость, что мне не жить после этого. Но Мария Владимировна не оглянулась.
Она держала себя на улице, как в классе: так же строго и празднично несла свою гордо посаженную голову. Она двигалась размеренно и неспешно, глядя прямо перед собой, непричастная к окружающей суете, как в школьном коридоре на большой перемене.
И я не заметил, чтобы в многолюдстве часа «пик» кто-нибудь толкнул её или хотя бы задел локтем. Переходя улицу, Мария Владимировна не замедляла шага, не оглядывалась по сторонам, а спокойно шла наперерез потоку машин, телег, пролёток.
Но она тоже не мешала движению транспорта, как и ей не мешало уличное движение.
Я брёл за ней, будто зачарованный. Меня толкали, чуть не сбивали с ног спешащие с работы люди, обругал ломовик, извозчик пытался огреть кнутом. Неуязвимость Марии Владимировны не распространялась на её ученика.
Я не отдавал себе отчёта, зачем иду, на что рассчитываю, какую преследую цель. Да и не было у меня ни цели, ни расчёта. Невысокая, статная женская фигура в тёмном пальто с рыжеватым мехом влекла меня на невидимом буксире. Чем дальше мы шли, тем сильнее росло во мне волнение. Мы к чему-то приближались. К её дому?.. К дому, где её ждут?.. К назначенному месту встречи?..
Вдруг Мария Владимировна повернулась и пошла прямо в блеск громадных низких окон. Мне и в голову не пришло, что целью маневра Марии Владимировны могла быть просто витрина галантерейного магазина. Я полагал, что она собирается проникнуть в дом сквозь толстое стекло, и готов был узреть чудо.
В последний миг Мария Владимировна раздумала окунуться в стихию стекла и стала что-то рассматривать там. Я замер у ближайшей водосточной трубы. Лицо её оставалось непроницаемым, лишь дрогнула бровь, обнаружив скрытую душевную работу. Мария Владимировна отстранилась от витрины и тем же строгим шагом пошла дальше.
Я подскочил к стеклу – обычные товары галантерейного магазина: сумочки, кошелёчки, пуговицы на картонках, гребешки, ножницы, головные щётки, катушки с нитками, наборы иголок. Что заинтересовало тут Марию Владимировну? Почему она вскинула бровь – движение, какого она никогда не позволяла себе в классе? Мне стало совестно.
Я подглядел нечто такое, что не принадлежало Марии Владимировне – педагогу и классной руководительнице, а лишь Марии Владимировне – женщине. Это нехорошо, я воспользовался беззащитностью человека, не ведающего, что за ним следят. И я не пошёл дальше.
Как много значит время на заре жизни! Сейчас годы ничего не меняют во мне, кроме физического самочувствия. А как поразительно много происходит в растущем человеческом существе за какие-нибудь полгода на пороге отрочества! Мне было около одиннадцати, когда выслеживал Марию Владимировну, я едва перешагнул двенадцать, когда попытался завоевать её душу…
Источник: https://ruslita.ru/13-glavnaya/395-yurij-nagibin